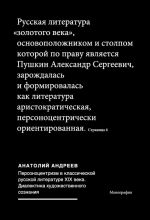О. В. Богданова,
Санкт-Петербургский государственный университет
доктор филологических наук, профессор
Анекдотичность изображаемой дуэльной ситуации проявляется во множестве деталей. Законы поединка предполагают наличие равных в социальном смысле противников («Прокофьич толковал, что и в его время господа дирывались, только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели», с. 327) — здесь на дуэль выходят дворянин и разночинец. Дуэль предусматривает наличие секундантов — им («вроде секунданта», с. 320) оказывается «низкородный» Петр, камердинер Николая Кирсанова, трусливый и глупый. Один из участников опаздывает к назначенному времени по причине того, что, наводя преддуэльный лоск, «не хотел будить камердинера» (с. 320). Отмеряя шаги, Базаров вроде бы иронизирует («Ноги у меня длиннее…», с. 320), а отсчитав условленную меру, спрашивает словно невзначай: «…или еще два шага накинуть?» (с. 320). В следующее мгновение герои целятся друг в друга, и теперь уже не вслух, а в собственных мыслях Базаров произносит: «Он мне прямо в нос целит и как щурится старательно, разбойник!» (c. 321). Едва ли не каждое слово в этой внутренней речи забавно и комично. Первым стреляет аристократ, предположительно в прошлом дуэлянт и как минимум охотник 19 , но промазывает. Не целясь, стреляет не державший оружия в руках Базаров и — попадает противнику в ляжку. И уже в следующий момент вместо того, чтобы воззвать к противнику встать для следующего условленного выстрела, бросает «пистолет в сторону» и кидается на помощь раненому. Легко раненный в ногу, Кирсанов пытается бодриться, но лишается чувств: «Вот новость! Обморок! С чего бы!» (с. 321) — следует реплика Базарова, как будто заимствованная из комедии Грибоедова или Гоголя. Даже взаиморасположение этих реплик в данной сцене подчинено комедийным законам: смертельно испуганный Петр, глядя на потерявшего сознание Павла Петровича, шепчет: «Кончается…» — а пришедший в сознание Кирсанов вторит ему: «Вы правы…» (с. 321), — хотя последняя фраза не становится ответом Петру, а относится к глупой физиономии «лже-секунданта». Да, «…поединок наш необычаен до смешного» (с. 321).
По окончании поединка противники ведут себя не менее нелепо. Только что стоя у барьера, теперь они сговариваются: «Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики. — Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов…» (с. 323). А с появлением брата Кирсанов и вовсе начинает защищать Базарова: «Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично» (с. 324). Еще час спустя «Павел Петрович смеялся, шутил…» — «особенно с Базаровым» (с. 324). А узнав об отъезде Евгения, «Павел Петрович пожелал его видеть и [даже] пожал ему руку» (с. 326).
Герои стрелялись, но тем самым примирились.
Однако примирение героев, как показывает Тургенев, — внешнее, поверхностное, личностное, как личностен и поверхностен конфликт, возникший между ними. Уже на следующий день после дуэли Павел Кирсанов прежним порядком «великодушничал» (с. 326), а Базаров, отъезжая на телеге из Марьина, бросал знакомое: «Барчуки проклятые» (с. 327). Конфликт, который изобразил писатель между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым, оказался конфликтом мнимым. Броским, но не сущностным.
Любопытно замечание, которое звучит у Тургенева по поводу раненого Кирсанова, заключающее ХХIV главу: «Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец» (с. 332).
Интересно, что наделяя Павла Петровича рядом черт, которые были присущи самому Тургеневу, тем не менее он называет героя, очень близкого по духу и поведению ему самому, «мертвецом». Но ведь самого Тургенева отличала манера возвышенной романтизированной речи. Это он не умел быть в споре холодным и сдержанным, а неизменно волновался и «загорался». Именно Тургенев, влюбленный в Полину Виардо, жил на краю ее гнезда, всего себя посвятив любви к женщине. Это Тургенев, подобно Павлу Петровичу, был славянофилом по духу, но западником по образу жизни и привычкам. Сам он вводил в наследном имении матери Спасском-Лутовинове европейские усовершенствования наподобие кирсановского английского рукомойника (с. 181), а не занимался хозяйствованием, как его старший брат (заметим, Николай). Отчего же писатель назвал персонаж, по всем признакам самый близкий ему, мертвецом? Но об этом позже.
Между тем в ходе дальнейшего развития сюжетного действия романа Тургенев показывает, что наметившееся сходство Базарова и Кирсанова дуэлью не исчерпывалось. Вернувшись в имение к родителям, Базаров попадает в ситуацию выбора, очень близкую Кирсанову. Как когда-то Павел Петрович предпочел память о любви всему тому, что еще могла предложить ему жизнь, так теперь Базаров «раскис» (с. 197) и выпал «из своей колеи» (с. 340). «Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась» (с. 351). Василий Иванович сокрушался: «он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен – вот что ужасно» (с. 351). В какую-то минуту Базаров даже декламирует Пушкина, и хотя скорее выдумывает приводимую «цитату» («Природа навевает молчание сна», с. 294), но любопытен сам факт обращения героя к поэзии. Если прежде Евгений работал, то теперь он сибаритствовал. К нему теперь можно было обратить слова, ранее адресованные Кирсанову: «…вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза» (с. 213).
Правда, в какой-то момент герой «нашел, наконец , себе занятие» (с. 353). Он стал участвовать во врачебной практике отца, помогать в приеме больных. Но, кажется, не желая придать этому обстоятельству особый вес, Тургенев уточняет: «…раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром» (с. 354). И по характеру фразы очевидно, что он вновь иронизирует.
Заметим, что практическая помощь Базарова (по точному замечанию Тургенева) длилась совсем недолго. Всего три дня. Именно на третий день Евгений обратился к отцу с вопросом, «нет ли у него адского камня» (с. 355), чтобы прижечь руку, пораненную во время вскрытия тифозного трупа. При этом герой добавляет: «…теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно» (с. 355). Умный, образованный молодой человек, Базаров, конечно, понимал, что если он порезал руку, то ее нужно немедленно обработать. И если даже адского камня не оказалось у уездного лекаря, то Базаров должен был рану «прижечь железом» (с. 355) – соображение, которое сразу высказал его отец, и это именно то, что герой мог сделать в любых условиях. Тургенев не объясняет, почему Евгений не сделал этого, но его душевное состояние накануне этого события – огорчение и грусть – подсказывает, что Базаров, не добившийся любви Одинцовой, теперь апатично отдавался на волю судьбы. Можно предположить, что если бы тогда в Никольском Анна Сергеевна ответила Базарову на его чувства, то теперь он ни в коем случае не допустил бы заражения. Попросту говоря, Базаров поступил так же, как поступил когда-то Кирсанов: он «опустился до того, что ни на что не стал способен» (с. 197). В условиях, когда его «карту убили», в нем, как и в Павле Петровиче, не достало решимости идти дальше.
Изображая смерть Базарова (в тот момент, когда уже умер Добролюбов и когда писатель уже много размышлял по поводу молодых нигилистов), Тургенев описывает ее едва ли не патетически. Герой уходит из жизни мужественно.
Тургенев: «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на гибель…» 20 .
Писарев: «…смотреть в глаза смерти, предвидеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до последней минуты, не ослабеть и не струсить – это дело сильного характера. Умереть так, как умер Базаров, – все равно что сделать великий подвиг» 21 .
19 Об охоте в кирсановских лесах говорит Базаров: «Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий» (с. 189).
20 Тургенев И. С. По поводу «Отцов и детей». Т. 10. С. 349.
21 Писарев Д. И. Базаров // Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Л.: Художественная литература, 1981. Т. 1. Статьи 1859–1864 гг.
источник
20 мая 1859 г. Николай Петрович Кирсанов, сорокатрехлетний, но уже немолодой с виду помещик, волнуясь, ожидает на постоялом дворе своего сына Аркадия, который только что окончил университет.
Николай Петрович был сыном генерала, но предназначенная ему военная карьера не состоялась (он в молодости сломал ногу и на всю жизнь остался «хроменьким»). Николай Петрович рано женился на дочке незнатного чиновника и был счастлив в браке. К его глубокому горю, супруга в 1847 г. скончалась. Все свои силы и время он посвятил воспитанию сына, даже в Петербурге жил вместе с ним и старался сблизиться с товарищами сына, студентами. Последнее время он усиленно занялся преобразованием своего имения.
Наступает счастливый миг свидания. Однако Аркадий появляется не один: с ним высокий, некрасивый и самоуверенный молодой человек, начинающий доктор, согласившийся погостить у Кирсановых. Зовут его, как он сам себя аттестует, Евгений Васильевич Базаров.
Разговор отца с сыном на первых порах не клеится. Николая Петровича смущает Фенечка, девушка, которую он содержит при себе и от которой уже имеет ребенка. Аркадий снисходительным тоном (это слегка коробит отца) старается сгладить возникшую неловкость.
Дома их ждет Павел Петрович, старший брат отца. Павел Петрович и Базаров сразу же начинают ощущать взаимную антипатию. Зато дворовые мальчишки и слуги гостю охотно подчиняются, хотя он вовсе и не думает искать их расположения.
Уже на следующий день между Базаровым и Павлом Петровичем происходит словесная стычка, причем её инициатором является Кирсанов-старший. Базаров не хочет полемизировать, но все же высказывается по главным пунктам своих убеждений. Люди, по его представлениям, стремятся к той или иной цели, потому что испытывают различные «ощущения» и хотят добиться «пользы». Базаров уверен, что химия важнее искусства, а в науке важнее всего практический результат. Он даже гордится отсутствием у него «художественного смысла» и полагает, что изучать психологию отдельного индивидуума незачем: «Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других». Для Базарова не существует ни одного «постановления в современном нашем быту… которое бы не вызвало полного и беспощадного отрицания». О собственных способностях он высокого мнения, но своему поколению отводит роль не созидательную — «сперва надо место расчистить».
Павлу Петровичу «нигилизм», исповедуемый Базаровым и подражающим ему Аркадием, представляется дерзким и необоснованным учением, которое существует «в пустоте».
Аркадий старается как-то сгладить возникшее напряжение и рассказывает другу историю жизни Павла Петровича. Он был блестящим и многообещающим офицером, любимцем женщин, пока не встретил светскую львицу княгиню Р*. Страсть эта совершенно изменила существование Павла Петровича, и, когда роман их закончился, он был полностью опустошен. От прошлого он сохраняет лишь изысканность костюма и манер да предпочтение всего английского.
Взгляды и поведение Базарова настолько раздражают Павла Петровича, что он вновь атакует гостя, но тот довольно легко и даже снисходительно разбивает все «силлогизмы» противника, направленные на защиту традиций. Николай Петрович стремится смягчить спор, но и он не может во всем согласиться с радикальными высказываниями Базарова, хотя и убеждает себя, что они с братом уже отстали от жизни.
Молодые люди отправляются в губернский город, где встречаются с «учеником» Базарова, отпрыском откупщика, Ситниковым. Ситников ведет их в гости к «эмансипированной» даме, Кукшиной. Ситников и Кукшина принадлежат к тому разряду «прогрессистов», которые отвергают любые авторитеты, гоняясь за модой на «свободомыслие». Они ничего толком не знают и не умеют, однако в своем «нигилизме» оставляют далеко за собой и Аркадия, и Базарова. Последний Ситникова откровенно презирает, а у Кукшиной «занимается больше шампанским».
Аркадий знакомит друга с Одинцовой, молодой, красивой и богатой вдовой, которой Базаров сразу же заинтересовывается. Интерес этот отнюдь не платонический. Базаров цинично говорит Аркадию: «Пожива есть…»
Аркадию кажется, что он влюблен в Одинцову, но это чувство напускное, тогда как между Базаровым и Одинцовой возникает взаимное тяготение, и она приглашает молодых людей погостить у нее.
В доме Анны Сергеевны гости знакомятся с её младшей сестрой Катей, которая держится скованно. И Базаров чувствует себя не в своей тарелке, он на новом месте начал раздражаться и «глядел сердито». Аркадию тоже не по себе, и он ищет утешения в обществе Кати.
Чувство, внушенное Базарову Анной Сергеевной, ново для него; он, так презиравший всякие проявления «романтизма», вдруг обнаруживает «романтика в самом себе». Базаров объясняется с Одинцовой, и хотя та не тотчас же освободилась от его объятий, однако, подумав, она приходит к выводу, что «спокойствие […] лучше всего на свете».
Не желая стать рабом своей страсти, Базаров уезжает к отцу, уездному лекарю, живущему неподалеку, и Одинцова не удерживает гостя. В дороге Базаров подводит итог происшедшему и говорит: «…Лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё […] вздор».
Отец и мать Базарова не могут надышаться на своего ненаглядного «Енюшу», а он скучает в их обществе. Уже через пару дней он покидает родительский кров, возвращаясь в имение Кирсановых.
От жары и скуки Базаров обращает внимание на Фенечку и, застав её одну, крепко целует молодую женщину. Случайным свидетелем поцелуя становится Павел Петрович, которого до глубины души возмущает поступок «этого волосатого». Он особенно негодует ещё и потому, что ему кажется: в Фенечке есть что-то общее с княгиней Р*.
Согласно своим нравственным убеждениям, Павел Петрович вызывает Базарова на поединок. Чувствуя себя неловко и, понимая, что поступается принципами, Базаров соглашается стреляться с Кирсановым-старшим («С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое»).
Базаров слегка ранит противника и сам подает ему первую помощь. Павел Петрович держится хорошо, даже подшучивает над собой, но при этом и ему и Базарову неловко. Николай Петрович, от которого скрыли истинную причину дуэли, также ведет себя самым благородным образом, находя оправдание для действий обоих противников.
Последствием дуэли становится и то, что Павел Петрович, ранее решительно возражавший против женитьбы брата на Фенечке, теперь сам уговаривает Николая Петровича совершить этот шаг.
И у Аркадия с Катей устанавливается гармоничное взаимопонимание. Девушка проницательно замечает, что Базаров для них — чужой, потому что «он хищный, а мы с вами ручные».
Окончательно потерявший надежду на взаимность Одинцовой Базаров переламывает себя и расстается с ней и Аркадием. На прощание он говорит бывшему товарищу: «Ты славный малый, но ты все-таки мякенький, либеральный барич…» Аркадий огорчен, но довольно скоро утешается обществом Кати, объясняется ей в любви и уверяется, что тоже любим.
Базаров же возвращается в родительские пенаты и старается забыться в работе, но через несколько дней «лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством». Пробует он заговаривать с мужиками, однако ничего, кроме глупости, в их головах не обнаруживает. Правда, и мужики видят в Базарове что-то «вроде шута горохового».
Практикуясь на трупе тифозного больного, Базаров ранит себе палец и получает заражение крови. Через несколько дней он уведомляет отца, что, по всем признакам, дни его сочтены.
Перед смертью Базаров просит Одинцову приехать и попрощаться с ним. Он напоминает ей о своей любви и признается, что все его гордые помыслы, как и любовь, пошли прахом. «А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану». С горечью говорит он, что не нужен России. «Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник…»
Когда Базарова по настоянию родителей причащают, «что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвевшем лице».
Проходит шесть месяцев. В небольшой деревенской церкви венчаются две пары: Аркадий с Катей и Николай Петрович с Фенечкой. Все были довольны, но что-то в этом довольстве ощущалось и искусственное, «точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию».
Со временем Аркадий становится отцом и рьяным хозяином, и в результате его усилий имение начинает приносить значительный доход. Николай Петрович принимает на себя обязанности мирового посредника и усердно трудится на общественном поприще. Павел Петрович проживает в Дрездене и, хотя по-прежнему выглядит джентльменом, «жить ему тяжело».
Кукшина обитает в Гейдельберге и якшается со студентами, изучает архитектуру, в которой, по её словам, она открыла новые законы. Ситников женился на княжне, им помыкающей, и, как он уверяет, продолжает «дело» Базарова, подвизаясь в роли публициста в каком-то темном журнальчике.
На могилу Базарова часто приходят дряхлые старички и горько плачут и молятся за упокой души безвременно усопшего сына. Цветы на могильном холмике напоминают не об одном спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной.
источник
— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.
Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».
— Не видать? — повторил барин.
— Не видать, — вторично ответствовал слуга.
Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.
Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться. но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.
Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын. кандидат. Аркаша. » — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена. «Не дождалась!» — шепнул он уныло. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес.
— Никак они едут-с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.
Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица.
— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками. Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.
источник
Лихорадка работы с него соскочила, и, по обыкновению, он погрузился целиком в течение тихой жизни, которая его окружала. Соден действовал умиротворенно и очищающе своими зелеными улочками, чистыми домиками, честными физиономиями жителей городка. Здесь было много зелени, уединенных мест для отдыха под тенистыми деревьями. После тревожной петербургской зимы, после раздражения противоречивыми, а подчас и диаметрально противоположными критическими отзывами о романе «Накануне» наступала временами душевная тишина с небольшой примесью тихой скуки — этого верного признака правильного препровождения времени. Тургенев знал по долгому опыту, что такое состояние предшествует новой вспышке напряженной творческой работы. «Без сосредоточенности, — говорил он, — можно сильно чувствовать, понимать, но творить — трудно. Дерево сосредоточивается в течение целой зимы, чтобы весной покрыться листьями и цветами». Так и писателю нужны минуты внутреннего сосредоточения.
«А я здесь веду жизнь патриархально-мирную, — писал Тургенев Е. Е. Ламберт из Содена. — Ничего не делаю — а дни так и летят: не успеваешь оглянуться — уже вечер наступил и сон клонит. Мысли, которые мне приходят в голову, — такого свойства, что я без большого усилия мог бы иметь и противуположные им мысли — до того они поверхностны и самой своей поверхностностью приятны и гармоничны».
В июне в Соден приехал Николай Николаевич Толстой, к которому Тургенев питал чувство дружбы и сердечной симпатии. Он был человеком мягким и немножко замкнутым, эстетически чутким и художественно одаренным. Тургенев считал, что он не имел недостатков, которые нужны для того, чтобы стать писателем, и, в первую очередь, главного — тщеславия: ему совершенно неинтересно было, что думают о нем люди. Но он имел тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, — и все это без малейшего самодовольства. Воображение у Николая Николаевича было такое, что он мог импровизировать сказки или истории с привидениями в духе модной тогда госпожи Радклифф без остановки и запинки, целыми часами, с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. В далеком детстве он сочинил игру в «муравьиных братьев» и легенду о «зеленой палочке» с написанной на ней разгадкой тайны о всеобщем человеческом счастье. Эту палочку искали маленькие братья Толстые на краю оврага в Старом Заказе. Лев Николаевич считал себя обязанным брату пробуждением чувства справедливости и веры в будущее братство. Не случайно в этом месте светлых детских игр с Николенькой завещал он выкопать себе могилу.
Тургенев познакомился с Н. Н. Толстым пять лет тому назад у Марии Николаевны в Покровском и очень тесно сошелся с ним. Веселый, искренний, без тени рисовки, он был человеком демократичным и непритязательным: в Москве снимал дешевую квартиру в каком-нибудь из отдаленных ее кварталов, делился всем, что имел, с любым бедняком. Тургенев общался с ним охотно и довольно часто в Спасском, в Ясной Поляне, в Москве. Они предавались охотничьим странствиям, разговаривали о жизни, об искусстве, играли в шахматы.
К концу зимы 1860 года у Николая Николаевича началась скоротечная чахотка. Узнав о болезни друга, Тургенев срочно написал А. А. Фету из Содена: «Все больные с расстроенною грудью лечатся в Содене; вот бы куда поехать Толстому (Николаю) и его сестре! Это было бы чудно. А воздух здесь действительно целебный: точно в нем парное молоко разлито… Боюсь я, что Николай Толстой все будет собираться — и не поедет наконец. А ему необходимо лечиться. Мне уже в прошлом году его кашель не нравился».
И вот он приехал к Тургеневу в Соден один, в надежде на исцеление. Нерадостной была эта встреча: здоровье Николая Николаевича оказалось из рук вон плохо. Тургенев с ним встречался ежедневно, играл в шахматы, но чаще увлекался разговором. Расспросы о предстоящей реформе, о том, как чувствует себя в преддверии великого события мужик, какие слухи ходят в народе о воле… Николай Николаевич увлекался, рассказывал Тургеневу целые импровизированные повести о загадочном русском народе, напоминающем «таинственного незнакомца», о котором так любила толковать госпожа Радклифф.
За границей Николай Николаевич чувствовал себя неуютно, скучал, много думал о России, о родных местах: «Против окон моих стоит неказистое дерево, — писал он из Содена Фету, — но на нем живет птичка и поет себе каждый вечер; она мне напоминает флигель в Новоселках».
Нередко друзья предавались воспоминаниям о прошлогодней охоте в окрестностях Спасского, такие воспоминания гасили временами тоску по родине:
— Сегодня Петров день, Николай Николаевич! Вообразите себе Фета с Борисовым в сопровождении верного моего Афанасия на охоте в Полесье… Вот поднимается черныш из куста — трах! закувыркался оземь красно-бровый.
— Нет! Удирает вдаль к синеющему лесу, редко дробит крылами — и глядит ему вслед мазила Борисов… не упадет ли, не свихнется…
— Эх, чешет, сукин сын, все далее и далее и закатился за лес. — Прощай! А что это мы с Вами, Николай Николаевич, сидим здесь в Содене да только вздыхаем. Не пройтись ли и нам по здешним угодьям?
источник
Текст книги «Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ века. Диалектика художественного сознания»
Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО «ЛитРес» (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Чтобы оценить масштаб и величие Базарова (за масштаб и величие – отдай жизнь!), нам предлагается в качестве неоднозначного фона классическая идиллия Аркадия. И жизнь, и слезы, и любовь, причем, взаимная. Приятная традиция отцов была с успехом продолжена, что, кстати сказать, вызвало у Базарова «злорадное чувство, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди». (с. 483) Ты сердишься, Евгений? Может, потому, что сам от себя скрываешь, насколько завидуешь возможности просто жить? Евгений на прощание наговорил своему другу много пылких слов, переходящих в туманные декларации: «для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. (Между прочим, Марьино «по крестьянскому наименованию» было известно как «Бобылий хутор». Был Бобылий хутор, стала цитадель любви… Жизнь развивается по своим законам. – А.А.) В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится»; «а мы драться хотим», «нам других ломать надо» etc. (с. 485)
Что за «наша жизнь», что за «наше дело»? При чем здесь драки и заламывания других?
Не будем делать вид, что Базаров не произносил этих слов и что в них не сквозят политические по преимуществу аллюзии. Произносил, сквозят. Собственно, если перевести их на язык бреда, они означают: я нужен России, а ты, Аркадий Николаич, не нужен.
Разумеется, дело обстоит прямо противоположным образом. Аркадий, рьяный хозяин, необходим России (да и Аргентине, между прочим, не помешал бы), равно как и мясник с портным. А вот романы, тем не менее, будут писать о никому не нужных Базаровых… Тут есть мысль.
К ней мы еще возвратимся, а сейчас отметим: Базаров в сцене последнего прощания с Аркадием оказался недостоин сам себя. Точнее, этот упрек стоило бы переадресовать повествователю, но поскольку слова вложены в уста Базарова, пусть он за них и отвечает. «Другие слова» у Базарова, несомненно, нашлись бы, однако они шли под рубрикой «романтизм» и «рассыропиться» (с. 485), а потому Базаров их не произнес, что означало: бой с «романтизмом», с логикой души продолжается и нигилизм не сдается. И все же Базаров произнес «другие слова», золотые слова, уже почти «романтические». «Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было». (с. 484) Пустота – это, понятно, предстоящая семейная жизнь Аркадия по древнему сценарию отцов, а «сено», ясное дело, – Катерина Сергеевна. Если убрать полемический задор и губительную иронию, получается мудрый рецепт. Врач, исцелись сам: «жизненный чемодан» надо было набивать, и не лихорадкой работы или пустой дракой с «романтизмом», а, к примеру, тем же браком, ибо «наше дело» – это и была поза и самый что ни на есть «романтизм». Переделать мир на разумных основаниях, под разумную жизнь – куда хватил Евгений Васильевич!
Чемодан вместо него набил повествователь, заставив-таки «рассыропиться» свирепого мечтателя, от самого себя скрывающего тоску по небу. Но это будет, как известно, в финале, когда к умирающему Базарову придет «великодушная» Анна Сергеевна.
Однако еще до того, как народ физически передаст доктору Базарову смертельную дозу холеры, которая и «выдернет» его из рядов живущих, народ на уровне идейном отсечет от себя умника Евгения «Васильева».
Вообще внутренний сюжет развивается многопланово и без пауз, что говорит о сосредоточенности повествователя именно на магистральном смысле. «Самоломанный» Базаров, вернувшись к родителям, ибо больше податься было некуда, прибегнул к испытанному средству: лихорадке работы, заболеванию работой, трудоголизму, как сказали бы сейчас. Клин клином вышибал, одной заботой – другую. Однако «лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества (…)». (с. 487) Подобно английскому сплину? Русская хандра?
Во всяком случае «искать общества» – это хороший симптом для лишнего, обнадеживающий признак. «Общество» требует душевного общения, а лишнему, дабы не пропасть, и надо развивать душевные склонности. Кончилось тем, что Базаров в прямом смысле пошел в народ, и хождение получилось весьма поучительным. Между прочим, вся предпоследняя, XXVII глава, где от повествователя требовалась солидарность с Евгением в форме трагииронии, сделана с подлинным блеском. Позволим себе пространную цитату, чрезвычайно колоритную и необходимую нам в контексте наших размышлений. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он («бедный Василий Иванович» – А.А.) надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: Время верное приходит, сердце чувствует любовь… Вот тебе и прогресс». Явная корреляция с собственным внутренним состоянием…
«Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – говорил он ему, – излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, – вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим… тоже, потому, значит… какой положон у нас, примерно, придел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? – перебивал его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»
– Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью, объяснял мужик, – а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику». Это в продолжение темы «Базаров и народ». Кто кого не понимает? Чтобы закрыть тему, продолжим цитату: «Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.
– О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. – О недоимке, что ль?
– Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было и следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость, – так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?
– Где понять! – отвечал другой мужик и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового…» (с. 488)
Странно, что эти диалоги трактуют часто в пользу народа, обнаруживая за косноязычными репликами живой и бойкий народный ум. Народ суров – но справедлив. Базаров не обнаружил в народе ничего, кроме непроходимой тупости, да звероватой хитрости. Собственно, ничего иного там обнаружить было невозможно, разве что смекалку на бытовом уровне, но это не относится к «воззрениям на жизнь». Повествователь решил примерить к Базарову народный аршин: «шут гороховый». Но эта глупая примерка более характеризует повествователя, да и сам народ, нежели «презрительно пожимавшего плечом» Базарова.
Вопрос: зачем «ломать» себя с целью излечения от любви, если ясно, что России, то бишь народу, ты и твой носящий общественный характер нигилизм не нужны? Очевидно, процесс «ломки» приобретал все более и более личностно-духовный характер, Базаров все более становился лишним именно вследствие своего «всероссийского», и даже всемирного («что такое ваш мир»? мир обычного, не рассуждающего человека, точнее, гораздого «рассуждать» только «о своих делах и нуждах») нигилизма.
«Впрочем, он (Базаров – А.А.) нашел, наконец, себе занятие». (с. 488) Смысл достаточно бессмысленного занятия состоял в том, что Евгений стал «участвовать в практике» отца, «не переставая в то же время посмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его». (с. 489) «Дело» сменилось «занятием», но и это вызвало восторг простодушнейшего Василия Ивановича: «Слава богу! перестал хандрить! – шептал он своей супруге (…)». (с. 489)
На самом деле Евгений только начинал хандрить, что означало: эксперимент по внедрению лишнего в тело народное успешно провалился. Результат подтвердил: лишний как тело инородное отторгается и не приживается. Бесполезно делать из Базарова Героя (в смысле Гиганта на сцене общественной). Он не герой по сути своей. Он антигерой (и в этом смысле гигант). Он вырулил-таки на стезю классического и полноценного лишнего, а уж что делать в финале с лишними – хорошо известно. Смерть нужна затем, чтобы подтвердить нежизнеспособность их жизненного credo и уберечь нормальных «детей» от духовного разложения. Особенно трогательно и эффектно запоздалое прозрение: оно всегда служит аргументом в пользу того, что «с ними что-то не так». Что, конечно, не может не радовать обыкновенного морально устойчивого читателя «с принципами».
Начать с того, что заразившийся Базаров посоветовал отцу «воспользоваться тем, что в вас (вместе с матерью – А.А.) религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу». Евгений в любой ситуации мыслит категориями мировоззренческими («воззрениями на жизнь»). «Матерьялизм» и здравый смысл Базарова при нем – следовательно, не о деградации и сочувствии по этому поводу идет речь; речь идет о гигантской силе духа. Далее обреченный сын заявил обезумевшему от горя отцу: «Ты мне сказал, ты послал за доктором… Этим ты себя потешил… потешь и меня: пошли ты нарочного…» (с. 493) Читатель уже знает: к Одинцовой (одна такая, неповторимая) Анне Сергеевне.
Потешить себя – это ведь и означает набить жизненный чемодан, лишь бы пустоты не было. Значит, все-таки есть чем набивать, есть чем потешить душу… Это не такой уж пустяк, не всякий лишний должным образом относится к «пустоте». А теперь послушаем Базарова, обращающегося к «ангелу с неба» и «благодетельнице» (это уж восторженная истерика Василия Ивановича, с. 497). «Ну, что ж мне вам сказать… я любил вас! (…) Скажу я лучше, что – какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая… (…) Великодушная! – шепнул он. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… (…) Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет… (…) И довольно! (…) Теперь… темнота…» (с. 499–500)
Кто это, чьи это исполненные поэзии речи: Пушкина, Шуберта или обновленного Базарова?
В жизни есть место поэзии и любви, теперь мы это знаем; есть место и разуму. Должно быть место и лишнему – но пока что нет такого уголка. Зато «есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России…» Кто не знаком с этим строгим печальным реквиемом, венчающем поэму о Базарове?
Странно: все эти повествования о странных людях сбиваются либо на романы в стихах, либо на стихотворения в прозе. Социальный роман переводит свое смысловое течение в план вечный и бесконечный: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» (с. 505) О Базарове и следует говорить в таком ключе и контексте.
А теперь попробуйте что-либо подобное сказать о грансеньоре der Herr Baron von Kirsanoff, о Павле Петровиче, разумеется. «Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья» – ну, и дай Бог ему здоровья. Тело подлечит, а с духом у него никогда проблем не было.
Кирсанов не годится в герои романа, героями их делают базаровы. Вот почему спустя шесть месяцев после отхода Базарова в мир иной, на Земле, в частности, в Марьино, «стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок». (с. 500–501) Природа не мастерская, а храм – но это уже не в упрек Базарову, а в память о нем. Нет Базарова, который, вроде бы, всем мешал, – и всем становится холодно. Неуютно. А тем, кто знает цену Базарову, – просто плохо. Тургенев многое угадал в природе человека. И все же Ивану Сергеевичу, если вести разговор на уровне им же и заданным, не избежать упреков по двум позициям.
Первое. Объективно, что как бы следует из «натуры вещей», разум противостоит душе, и посему выставлен безрассудной и опасной силой. Поскольку не было произведено дифференциации между разумом и одной из его функций, интеллектом (куцым, неполноценным разумом), все претензии к последнему в полной мере предъявляются и к первому. И получается: главное культурное достижение – избежать варварского влияния разума. Остается «красоте» спасать мир и думать об этом приходится душе, кому ж еще?
Второе. Претензии к личности, словно и это не подлежит обсуждению, предъявляются от имени интересов социума. Тургенев «по умолчанию» делает социум абсолютной и безоговорочной точкой отсчета. А здесь всегда картина неизменна: личность плоха уж тем, что она личность; чем крупнее личность – тем сложнее применить ее в качестве универсального социального критерия, того самого общего и обыкновенного аршина. Личность – это всегда в той или иной мере диверсия против социума. Судить по социально выверенным и значимым критериям о качестве личности – все равно, что по длине хвостового оперения определять стати матерого волка. Аршины не совпадают. Личность – величина многовекторная и многоаршинная. Вот почему угрюмый глас народа, сливающийся с аристократическим ворчанием, едва ли стоит всерьез воспринимать как приговор Базарову.
Собственно, мы говорим об «ошибках» Тургенева в отношении лишних не потому, что это его личные промахи. Напротив, это именно типичные заблуждения, которые Тургенев талантливо усвоил и присвоил. Как типичен лишний, так типичны и мифы, роящиеся вокруг него; некоторые из них воспроизводятся в «Отцах и детях», романе типично европейско-аналитическом с исключительно русским вниманием к проблемам души.
Сам характер «претензий» к Ивану Сергеевичу Тургеневу говорит о том, что перед нами художник экстра-класса. Мировой уровень поднятой им проблемы не вызывает сомнения. Художественное качество сотворенной им модели позволяет русской литературе гордиться гением всемирного масштаба. Тургеневу, собственно, удалось стать одним из тех, кто задает и определяет всемирный уровень.
Не так уж плохо для писателя, затронувшего тему, в пучине которой угадываются остовы затонувших титанов.
Илья Ильич Обломов – образ многоплановый, противоречивый, выявляющий свою подлинную глубину не сам по себе, а в системе образов романа, устроенного весьма диалектически. Скажем больше: не только (и не столько) в системе образов романа, но и в контексте разрабатываемой русской литературой типа лишнего.
Парадокс Ивана Александровича Гончарова, этого мсье де-Леня русской словесности, состоит в том, что один из самых русских романов сотворен очень даже на европейский манер. Что само по себе наводит на размышления. Иными словами, в романе выведен «русский как культурный тип», увиденный глазами европейца, а не, скажем, китайца. Это обстоятельство воспринимается как само собой разумеющееся, а между тем европейская система координат в романе «Обломов» сама ставится под сомнение. По крайней мере весьма существенные и значимые европейские ценности подвергнуты писателем по-европейски дотошному анализу.
Уже эти предварительные замечания, если они верны, свидетельствуют о том, что перед нами художественное полотно, не лишенное подлинной глубины и замешанное на концепции не выдуманной, не высосанной из пальца, а предложенной самой жизнью. Это-то нам и нужно.
И.А. Гончаров – мастер концептуального романа, а это уже европейская традиция, предполагающая высокий культурный уровень. Русские же сами по себе стали культурной загадкой для просвещенной Европы, и даже в определенном смысле конструктивной альтернативой по отношению к старой доброй, закосневшей в рационализме и прагматизме Европе. Илья Ильич Обломов в данном контексте – базовый тип в жизни и литературе, детище культуры, не оторвавшейся от натуры. Роман «Обломов» будет интересовать нас как своего рода пересечение культурных трасс: с одной стороны, как противопоставление пылкого русского ума суровому и сухому германскому (читай – европейскому), а с другой – как своеобразная ниша в уникальной саге о «лишних», которую творила русская литература на протяжении XIX века.
Удивительное дело: Илью Обломова, обладателя «золотого сердца», мечтателя и рыцаря любви, горячего поклонника красоты и поэзии, достаточно часто причисляют к тем же лишним, в редкую толпу которых угодил и Евгений Базаров, называвший красоту, поэзию и любовь не иначе, как «гниль», «художество», «чепуха». На первый взгляд у добрейшего Ильи Ильича куда больше общего с тем же грансеньором и сибаритом Павлом Петровичем Кирсановым, нежели со свирепым мачо Базаровым. И тем не менее по какому-то главному, решающему признаку Обломов и Базаров попадают в лишние. С самого начала стоит разобраться: или признак не тот, или Обломов не имеет к лишним никакого отношения, или Базаров оказывается лишним в компании Онегина, Печорина и Обломова.
«Лишний», конечно же, в почетной духовной номинации – это тот, кто не знает, что ему делать, это понимание минус практика (трактуемая как механизм сцепки с социумом). Остается голое понимание, понимание в себе, понимание ради понимания. Понимание странным образом обрекает на бездействие, хотя лишний отдает себе отчет в гибельности подобного расклада. Один в поле, не воин. Короче говоря, фатальная невозможность конструктивной деятельности на благо общества при наличии благих намерений – вот что такое лишний. И рад бы делать-действовать, да вижу бесплодность, бесполезность дел. Полезнее, если на то пошло, ничего не делать.
Обломов, как мы вскоре убедимся, идеально соответствует этой сомнительной номинации. Однако Базаров, кипучий и могучий, дающий фору даже Штольцу, он-то как влип в лишние?
Да, существует пунктик, который активно противоречит причислению Базарова к лишним. Деятельностная активность, пусть и разрушительная, credo Базарова – и пассивная созерцательность, болезнь лишних: согласимся, тут есть нюансы. Это, мягко говоря, не одно и то же. Собственно, практическое начало и позволяет (заставляет!) трактовать «нигилизм» Базарова как род деятельности в противовес безысходной и бесплодной рефлексии «отцов». «Лихорадка работы» или горячка деятельности – это знак и симптом востребованности, нужности и необходимости. «Чем-чем, а болтовней не грешны», – заявляет Базаров. Нигилизм его непосредственно затрагивает сферу социальной практики, хочется думать – политики. Политически активный лишний – это что-то новенькое в типажах отечественной словесности. Скорее уж Павел Петрович на таком фоне выглядит лишним. Однако (и это во-первых) при ближайшем рассмотрении активность Базарова оказывается познавательного, то есть все того же рефлектирующего, пусть и несколько идеологизированного толка. А во-вторых, как только Базаров поумнел до критической черты, от активности его и следа не осталось. Так что не будем путать, скажем, одномерного (хотя и активного) Штольца и многомерную фигуру нигилиста. Активность и нацеленность на дело – это форма, но не суть созерцательного отношения. Бывает. Если это не так, придется ставить в вину Печорину его авантюрно-приключенческую активность, Онегину – философскую и т. д. Активность активности рознь. Реально востребуемая обществом активность – вот чего не достает Базарову и чем в избытке наделены все Кирсановы. Активность же Базарова – это протест против бессмысленной, с его точки зрения, но актуальной и поощряемой активности «отцов».
Послушаем Базарова: «– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. (…)
– Однако позвольте, заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить.
– Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить». (Роман цитируется по изданию: Тургенев И.С. Собр. Соч. в 6-ти томах. – Т. 2, с. 356–357. – М., «Правда», 1968)
Звучит страшновато. Ломать не строить, беды не оберешься. Но что значит ломать, отрицать, разрушать, «творить» нечто противоположное созиданию?
Это значит критиковать и анализировать. «Революция», которой, якобы так несет от Базарова, требует кропотливой созидательной оргработы, черновой рутинной «пахоты» с людьми. Базаров же – типичный идеолог, харизматический лидер без склонности к вождизму. Не демагог – это да, но и не подпольщик.
Таким образом, Базарова и Обломова объединяет критическо-аналитический подход, они крепки разрушительным умом – и теряются перед задачей и перспективой создать что-либо достойное внимания. Неужели и вальяжный, не способный муху обидеть Обломов отчасти «нигилист»? «Золотое сердце» – и жуткий нигилизм?
Увы, лучшим основанием для бескомпромиссного нигилизма во все времена были именно славное сердце, добрая душа и благие намерения. Обломов в каком-то смысле покруче, порадикальнее рыкающего Базарова будет.
Давайте заглянем в роман. Чему посвящена вся «часть первая» лучшего творения И.А. Гончарова? Лени Обломова? Это какой же ленью мысли надо обладать, чтобы увидеть в специфической жизнедеятельности Обломова одну только лень, пусть и социальную, помещичью по своему происхождению. «Обломовщина» – это лень протухшего помещика, Оболта-Оболдуева? И все? И стоило ради такого героя роман писать?
Поставим вопрос более профессионально: создашь ли на таком герое (антигерое, сатирическом герое) роман?
Нет, не создашь, даже если очень захочешь. Ни конфликта, ни сюжета не выжмешь из плоского и ленивого мировидения. А в романе есть конфликт, есть верно схваченная культурная ситуация, которой дано обманчиво пренебрежительное название «обломовщина».
В конце романа обломовщина названа будет болезнью, точнее, «причиной», по которой «погиб, пропал ни за что» «товарищ и друг» Штольца Обломов. «, – А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и – пропал!» Уточним: это мнение Штольца. (Роман цитируется по изданию: Гончаров И.А. Обломов. – Л., «Наука», 1987. – С. 382. Жирным шрифтом в цитатах выделено мной, курсив – автора. – А.А.) Но Обломов как духовная болезнь – это одно, а как свойство характера или, лучше сказать, социальный типаж – нечто совсем иное.
Итак, часть первая. «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов». (с. 7) К Обломову, лежащему на знаменитом диване и «завернутому» в знаменитый «халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный», держащему рядом с постелью еще более знаменитые туфли, «длинные, мягкие и широкие», – к знаменитому Илье Ильичу, которого «приливы замучили», вошел «блещущий здоровьем» некто Волков. «Блещущий» господин был от портного, в рейт-фраке (для верховой езды). На вопрос хозяина «а вы как поживаете?» ответ был вполне определенным: «– Я? Ничего: здорово и весело, – очень весело! – с чувством прибавил молодой человек». (с. 17)
Илья Ильич, как известно, не просто лежал, а все составлял в уме некий план. Так вот визит Волкова был соблазном и искусом мира светского, так сказать, контрпланом. Мсье Волков искренне предлагал Обломову вариант жизни «очень веселой», где развлечения и становятся смыслом существования. Ни на что другое просто не остается времени и сил. Это особый образ жизни, предполагающий порхание из гостиной в гостиную. Светские утехи требуют энергии и энтузиазма. «– Вы будете бывать?» – вопрошает веселый Волков. «– Нет, я думаю, не буду», – отвечает самоуглубленный и критически настроенный Обломов. «– И вам не лень мыкаться изо дня в день (бывать, слоняться по гостиным – А.А.)?» – интересуется любезный хозяин. «– Вот, лень! Что за лень? Превесело! – беспечно говорил он (Волков – А.А.). – Утро почитаешь, надо быть au courant (в курсе – франц.) всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитом, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен… Начинается лето; Мише (приятелю – А.А.) обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champetres (сельские балы – франц.). С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы… Ах. – и он перевернулся от радости. – Однако пора… Прощайте, – говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало». (с. 19)
«В десять мест в один день – несчастный! – И это жизнь! – Он (Обломов – А.А.) сильно пожал плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию… она миленькая! В деревне с ней цветы рвать и кататься – хорошо; да в десять мест в один день – несчастный!» – заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой». (с. 20) Не кажется ли вам, читатель, что лежанье Ильи Ильича отдает тем, что может быть названо осмысленным протестом против суетного галопа по жизни, против «суеты сует»?
Уже в другом месте, в разговоре со Штольцем, Илья Ильич тонко заметит: «Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно – не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон!» Сон чего? Ума и души. Крики и суета – это форма непробудного сна, а сон Обломова – это своего рода созерцательная активность, жизнь ума. «Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему!» – продолжает рассуждать Обломов. Скука, сон и пустота – вот содержание внешней активности «блещущего» Волкова. Впрочем, не будем забегать вперед. У нас еще будет время над этим задуматься.
Волков был не первым и не последним соблазном судьбы. «Вошел новый гость». «Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, (..) с утруженным, но спокойно-сознательным выражением в глазах» – это был старый сослуживец Судьбинский, уверенно оперяющийся социальный лидер, недавно, «к Святой», назначенный начальником отделения. «– Гм! Начальник отделения – вот как! сказал Обломов. – Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.
– Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду…
– Приходи обедать, выпьем за повышение! – сказал Обломов.
– Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад – адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем. (…)
– Ну, что нового у вас? – спросил Обломов.
– Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»; формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли… Много!» (с. 21)
«Утруженный» Судьбинский не вызвал в душе Ильи Ильича чувства большой зависти. «Увяз, любезный друг, по уши увяз, – думал Обломов, провожая его глазами. – И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства – зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое… А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома – несчастный!»
Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению». (с. 23)
Обломов весьма избирателен в вопросах карьеры, времяпровождения, собственно, жизнепровождения, соотнося их с потребностями ума, воли, чувства. Ай да Илья Ильич! Браво, ленивец Обломов! Это ведь уже на философию тянет: человеку необходима цель, для реализации которой должен быть востребован весь потенциал духовности. Вот почему мы лежим и пребываем в восточной неге: цель не та-с. Нет цели, нет точки приложения сил – и силы хиреют: ум кипит в бездействии пустом, воля атрофируется, чувства блекнут. Так и хочется после этого Илью Ильича сделать предводителем «лишних».
Но что-то здесь не так – и мы даже укажем, что именно. Для лишнего отсутствие цели, своей «звезды» – источник трагизма, пункт, с которого начинается разрушение личности, деградация, черта, за которой приходит ощущение «лишности», ненужности, бессмысленности. Обломов же «испытал чувство мирной радости». Отчего же Онегин с Печориным тяготятся бездельем от «бесцелья», от жизни «без цели и трудов», а Обломов испытывает чувства «радости» и «гордости»?
Оттого, очевидно, что у Ильи Ильича цель все же есть, и она никак не связана с необходимостью деятельности, служения на пользу общества. Обломов – это редкий для русской литературы XIX века вариант преодоления комплекса лишнего, преодоление способом преоригинальным.
Но всему свое время. К способу этому надо подойти, к нему очень тонко подводит «литератор» (повествователь), рассказывающий историю «обломовщины» со слов Штольца. Не будем торопиться, тем более, что Судьбинского сменил «худощавый, черненький господин», одетый «с умышленной небрежностью». Это был литератор Пенкин. «У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать!» Вот очередное поприще, открытое судьбой. Не хочешь веселиться, не желаешь корпеть над бумагами, делая карьеру, – пиши. Тут и ум, и чувства, и воля пригодятся. Правда, необходим еще такой пустячок, как талант. Но нам сейчас важны требования, которые предъявляет «тактичный» Обломов к искусству. Пенкин считает, что сверхзадача литературы – «обнаружить весь механизм нашего общего движения», интересоваться «одной голой физиологией общества», «карать, извергнуть из гражданской среды» порок; «не до песен нам теперь..». Литература превращается в инструмент исправления нравов, в кнут, в санитара общества с функциями оперативными, насущными и далекими от «прекрасного». Обломова же интересует «гуманитет». (с. 25) «– Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! – почти шипел Обломов. – Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, – тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… (…) Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию. (…) Человека, человека давайте мне! – говорил Обломов, – любите его… (…) Извергнуть из гражданской среды! – вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. – Это значит, забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? – почти крикнул он с пылавшими глазами». (с. 25–26)
Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО «ЛитРес» (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.
источник